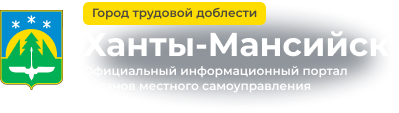06.10.2003 00:00
Открыв книгу его избранной лирики “Исповедь язычника”, попадаешь в многокрасочный таинственный поэтический мир таёжной природы. Здесь можно увидеть, как “Юча — фея тайги в белой парке неслышно идёт”, Юча — дочь снежной Тэли — зимы. А там промелькнут да исчезнут феи бора. Осторожнее, здесь можно столкнуться и со злым болотным духом. Зовут его Комполен.
Перед тобой могут предстать идолы и амбары, предназначенные для поклонения им. Ты постоишь у священного кедра, пообщаешься с шаманом, поучающим добру и бережному отношению к красоте. А в ночи — “жёлтый бубен — луна над вершиною кедра висит”, а ещё здесь — “Ковш Медведицы черпает тьму”.
Древние предания, языческие обряды и обычаи естественно проникают в ткань его стихов, овевают их воздухом языческих тайн, придают им магическую силу, которая, впрочем, не имеет ничего общего с заклинаниями местных служителей культа.
Там правят чувствами не боги, а красота девичьих лиц...
И пляшущая маска язычника не подменит собою истинной природной красоты, которой, прежде всего, и служит поэт. О, она полна соблазнов, и ей очень важно целомудрие, как в стихотворении “Искушение”: “Соски, рябинками краснея, не признают её вины”.
Сквозь толщи смутной тайны пробивается чистым ключом эта красота. И питает корни духовной почвы поэта. И он с уверенностью скажет: “Живёт без фальши и обмана в природе каждый стебелёк”. А с возрастом, когда приходит умудрённость, безмолвные образы природного бытия в сердце поэта рождают драматический накал:
Рябина, как в детстве, как в юности, с кручи
Нам машет платком, словно скорбная мать...
А язычество поэта далеко не то, каким оно в современных представлениях сложилось:
Язычник мудрый — поэтому
Священность к женщине питаю,
Руками скульптора ласкаю,
В цветы и травы опускаю...
Музыкальная пластика и художественная выразительность выгодно отличают стилистику поэта. А его особое поэтическое постижение родной мансийской таёжной жизни тесно смыкается с русской стиховой культурой. Тайга, населённая людьми и язычески одухотворённая, у него вселенски вбирает в себя все краски мира, все предметы Прекрасного:
Плачут звёзды и падают в омут Вселенной,
И рождаются в мире искры зла и добра...
Притчеобразное течение стиха многих его произведений позволяет снимать накал конфликтных страстей уравновешенностью добра и зла. Но не всегда это удаётся. И из таких “неудач” как раз и рождаются настоящие творческие удачи, как в случае со стихотворением “Исповедь волка”.
Бывает ли поэт в глухих таёжных уголках или у друзей-поэтов в Москве и Будапеште, он как бы одновременно живёт в нескольких литературных традициях.
Влияние же русской классической поэзии настолько велико, что всюду обнаруживаются следы его, вольно ли, невольно для самого поэта. Не случайно у него Бунин (стихотворение “В том порту”) видит Россию — “ту, в рыданьях гармоник — Россию”, и — “этот снег и парящий, и синий, эти тройки, и эту Неву”.
Лучшие из современников поэта тоже могут находить отзвук или отзыв у мансийского мастера слова.
Сосновый бор до стона раскалён,
И синий ягель поседел от зноя.
Но по весне он станет цвета моря.
Олень, конечно, будет удивлён...
Невольно вспоминается кузнецовское: “Раскололась сосна на два стона...”
О, ягельные синие поля!
Спокойное оленье утоленье...
А тут вдруг вспоминается мартыновское “оленье томленье”...
В душе поэта борются не только две стиховые культуры, но и две стихии, две веры: “Христианин я и язычник, меня крестили в Иртыше”. И уже в поэтической книге “Исповедь язычника” наметился его окончательный переход к русскому православию. С тропы язычника — на праведную стезю.
Правда, настоятельные посылы к этому видны у него и раньше, например, в стихотворении “Мольба к богу”:
Господи, несправедливо
Жизни поэта лишать...
Так отпусти же, Всевышний,
Вечность ему от Весны...
И помогает новообращению поэта опять же духовное слияние с природой, зовущей к вселенской гармонии красками и ликами прекрасного, соразмерностью и разумностью. Автор чутко это воспринимает. Поэтому даже звери и деревья у него обладают пониманием прекрасного и по-своему служат ему.
И прежде чем кануть в берлогу,
Осмотрит медведь с высоты
И волны, и птичьи дороги,
Чтоб снились цветастые сны...
В смутную пору развенчания всех и всяческих святынь, а вместе с тем и расчеловечивания, А.Тарханов жаждет святости — по отношению к природе, женщине, языческим богам, народу, стране и, наконец, к Богу всеединому православному. Всё приемлет он в этом мире, только не отсутствие святости:
Но если в душах нет святыни,
То в душах наступает ночь.
Отец в детдом уводит сына,
Больную мать бросает дочь...
Слишком в людях мало стало той святости, которая пробуждала совесть и побуждала к самопожертвованию. И отходят в небытие, ступая на плахи — погосты, многие российские, в том числе и ханты-мансийские, деревни, если не отошли ещё... Так не стало и родной деревни А.Тарханова, по которой с горечью вздыхает поэт: “Нет тебя, моя деревня. Нет боров, река тиха”. В этом стихотворении, так и называемом “Моя деревня”, не мог он не вынести свой укор временщикам-разрушителям:
Но в период укрупнений
Неразумнейшим пером
Тысячи таких селений
Были списаны на слом...
После “Исповеди язычника” А.Тарханов закономерно шёл к следующим книгам — “День боренья”, “Ветер вечности”, “Храм милосердия”, “Вербное воскресенье”, к поэме “Утро вознесения”.
В них библейские мотивы стали всё заметнее преобладать над языческими. “Но в жизни есть судная Плаха”, — убеждён поэт. В этой строке прочитывается крест — распятие, хотя рядом ещё ассоциируется жертвенный алтарь — четвероногий амбар.
Я сам сотворил себе Плаху,
Чтоб вечно святыни берёг...
Так и выходит ежедневно поэт на плаху собственной совести, крепнущей в вере православной.
Книга избранной лирики А.Тарханова вышла в начале третьего тысячелетия и несёт на себе и хронологический отпечаток смены времён. Внушительны, но далеко не утешительны итоги эпохи, раздвинувшей временные рамки в открывшуюся огромность нового тысячелетия. Увы, поэт вынужден подвести главный — как сам он это понимает — итог времени:
Но даже после всех ошибок горьких
Нет снова милосердия к живым —
Мы милосердье бережём для мёртвых.
И выстраивает свой Храм милосердия. “Я тайны радости постиг — Храм милосердия воздвиг”. Однако, не скрывается затворнически в нём, как в башне из слоновой кости, а распахивает навстречу каждому, кто входит в страну поэзии, в обитель духа. Входит с тем, чтобы найти здесь утешение, обрести покой в думах о спасении собственной души. Храм этот естественно вписан в первозданный мир природы. И здесь можно порадоваться девственной её чистоте и наивности её языка. Так и чудится, — автор возвращает нам её, давно утраченную.
Нельзя не согласиться, что национальный колорит лирики Тарханова органично вписывается в контекст российской и мировой литературы, безусловно, обогащая её. Думаю, без нашего ханты-мансийского поэта мировая культура была бы неполной. И, можно смело сказать, в этом виден Промысел Божий, ибо Творцу Вселенскому, видно по всему, милее многообразие, нежели однообразие пустыни.
По-своему слышать зов Творца — в этом счастливый талант поэта Андрея Тарханова, этим и определяется своеобразие его лирики.
Открыв книгу его избранной лирики “Исповедь язычника”, попадаешь в многокрасочный таинственный поэтический мир таёжной природы. Здесь можно увидеть, как “Юча — фея тайги в белой парке неслышно идёт”, Юча — дочь снежной Тэли — зимы. А там промелькнут да исчезнут феи бора. Осторожнее, здесь можно столкнуться и со злым болотным духом. Зовут его Комполен.
Перед тобой могут предстать идолы и амбары, предназначенные для поклонения им. Ты постоишь у священного кедра, пообщаешься с шаманом, поучающим добру и бережному отношению к красоте. А в ночи — “жёлтый бубен — луна над вершиною кедра висит”, а ещё здесь — “Ковш Медведицы черпает тьму”.
Древние предания, языческие обряды и обычаи естественно проникают в ткань его стихов, овевают их воздухом языческих тайн, придают им магическую силу, которая, впрочем, не имеет ничего общего с заклинаниями местных служителей культа.
Там правят чувствами не боги, а красота девичьих лиц...
И пляшущая маска язычника не подменит собою истинной природной красоты, которой, прежде всего, и служит поэт. О, она полна соблазнов, и ей очень важно целомудрие, как в стихотворении “Искушение”: “Соски, рябинками краснея, не признают её вины”.
Сквозь толщи смутной тайны пробивается чистым ключом эта красота. И питает корни духовной почвы поэта. И он с уверенностью скажет: “Живёт без фальши и обмана в природе каждый стебелёк”. А с возрастом, когда приходит умудрённость, безмолвные образы природного бытия в сердце поэта рождают драматический накал:
Рябина, как в детстве, как в юности, с кручи
Нам машет платком, словно скорбная мать...
А язычество поэта далеко не то, каким оно в современных представлениях сложилось:
Язычник мудрый — поэтому
Священность к женщине питаю,
Руками скульптора ласкаю,
В цветы и травы опускаю...
Музыкальная пластика и художественная выразительность выгодно отличают стилистику поэта. А его особое поэтическое постижение родной мансийской таёжной жизни тесно смыкается с русской стиховой культурой. Тайга, населённая людьми и язычески одухотворённая, у него вселенски вбирает в себя все краски мира, все предметы Прекрасного:
Плачут звёзды и падают в омут Вселенной,
И рождаются в мире искры зла и добра...
Притчеобразное течение стиха многих его произведений позволяет снимать накал конфликтных страстей уравновешенностью добра и зла. Но не всегда это удаётся. И из таких “неудач” как раз и рождаются настоящие творческие удачи, как в случае со стихотворением “Исповедь волка”.
Бывает ли поэт в глухих таёжных уголках или у друзей-поэтов в Москве и Будапеште, он как бы одновременно живёт в нескольких литературных традициях.
Влияние же русской классической поэзии настолько велико, что всюду обнаруживаются следы его, вольно ли, невольно для самого поэта. Не случайно у него Бунин (стихотворение “В том порту”) видит Россию — “ту, в рыданьях гармоник — Россию”, и — “этот снег и парящий, и синий, эти тройки, и эту Неву”.
Лучшие из современников поэта тоже могут находить отзвук или отзыв у мансийского мастера слова.
Сосновый бор до стона раскалён,
И синий ягель поседел от зноя.
Но по весне он станет цвета моря.
Олень, конечно, будет удивлён...
Невольно вспоминается кузнецовское: “Раскололась сосна на два стона...”
О, ягельные синие поля!
Спокойное оленье утоленье...
А тут вдруг вспоминается мартыновское “оленье томленье”...
В душе поэта борются не только две стиховые культуры, но и две стихии, две веры: “Христианин я и язычник, меня крестили в Иртыше”. И уже в поэтической книге “Исповедь язычника” наметился его окончательный переход к русскому православию. С тропы язычника — на праведную стезю.
Правда, настоятельные посылы к этому видны у него и раньше, например, в стихотворении “Мольба к богу”:
Господи, несправедливо
Жизни поэта лишать...
Так отпусти же, Всевышний,
Вечность ему от Весны...
И помогает новообращению поэта опять же духовное слияние с природой, зовущей к вселенской гармонии красками и ликами прекрасного, соразмерностью и разумностью. Автор чутко это воспринимает. Поэтому даже звери и деревья у него обладают пониманием прекрасного и по-своему служат ему.
И прежде чем кануть в берлогу,
Осмотрит медведь с высоты
И волны, и птичьи дороги,
Чтоб снились цветастые сны...
В смутную пору развенчания всех и всяческих святынь, а вместе с тем и расчеловечивания, А.Тарханов жаждет святости — по отношению к природе, женщине, языческим богам, народу, стране и, наконец, к Богу всеединому православному. Всё приемлет он в этом мире, только не отсутствие святости:
Но если в душах нет святыни,
То в душах наступает ночь.
Отец в детдом уводит сына,
Больную мать бросает дочь...
Слишком в людях мало стало той святости, которая пробуждала совесть и побуждала к самопожертвованию. И отходят в небытие, ступая на плахи — погосты, многие российские, в том числе и ханты-мансийские, деревни, если не отошли ещё... Так не стало и родной деревни А.Тарханова, по которой с горечью вздыхает поэт: “Нет тебя, моя деревня. Нет боров, река тиха”. В этом стихотворении, так и называемом “Моя деревня”, не мог он не вынести свой укор временщикам-разрушителям:
Но в период укрупнений
Неразумнейшим пером
Тысячи таких селений
Были списаны на слом...
После “Исповеди язычника” А.Тарханов закономерно шёл к следующим книгам — “День боренья”, “Ветер вечности”, “Храм милосердия”, “Вербное воскресенье”, к поэме “Утро вознесения”.
В них библейские мотивы стали всё заметнее преобладать над языческими. “Но в жизни есть судная Плаха”, — убеждён поэт. В этой строке прочитывается крест — распятие, хотя рядом ещё ассоциируется жертвенный алтарь — четвероногий амбар.
Я сам сотворил себе Плаху,
Чтоб вечно святыни берёг...
Так и выходит ежедневно поэт на плаху собственной совести, крепнущей в вере православной.
Книга избранной лирики А.Тарханова вышла в начале третьего тысячелетия и несёт на себе и хронологический отпечаток смены времён. Внушительны, но далеко не утешительны итоги эпохи, раздвинувшей временные рамки в открывшуюся огромность нового тысячелетия. Увы, поэт вынужден подвести главный — как сам он это понимает — итог времени:
Но даже после всех ошибок горьких
Нет снова милосердия к живым —
Мы милосердье бережём для мёртвых.
И выстраивает свой Храм милосердия. “Я тайны радости постиг — Храм милосердия воздвиг”. Однако, не скрывается затворнически в нём, как в башне из слоновой кости, а распахивает навстречу каждому, кто входит в страну поэзии, в обитель духа. Входит с тем, чтобы найти здесь утешение, обрести покой в думах о спасении собственной души. Храм этот естественно вписан в первозданный мир природы. И здесь можно порадоваться девственной её чистоте и наивности её языка. Так и чудится, — автор возвращает нам её, давно утраченную.
Нельзя не согласиться, что национальный колорит лирики Тарханова органично вписывается в контекст российской и мировой литературы, безусловно, обогащая её. Думаю, без нашего ханты-мансийского поэта мировая культура была бы неполной. И, можно смело сказать, в этом виден Промысел Божий, ибо Творцу Вселенскому, видно по всему, милее многообразие, нежели однообразие пустыни.
По-своему слышать зов Творца — в этом счастливый талант поэта Андрея Тарханова, этим и определяется своеобразие его лирики.