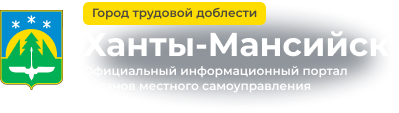Проблемы защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, охраны окружающей среды и рационального природопользования обсудят ее участники — ведущие эксперты и ученые в области законодательного обеспечения традиционного и промышленного природо-, землепользования, представители общественных организаций коренных малочисленных народов, а также федеральных и региональных органов государственной власти.
Накануне форума наш корреспондент беседовал с председателем Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера думы Ханты-Мансийского автономного округа Еремеем Айпиным. Обозначенные в его размышлениях проблемы, скорее всего, найдут свое продолжение в дискуссиях межрегиональной конференции. Земля — основа жизни — Мы уже в третий раз проводим конференцию, пытающуюся ответить на главный вопрос: как защитить право аборигена на традиционный образ жизни в современном техногенном мире? Но если первые две конференции (1998 и 2001 гг.) имели статус «международных», нынешняя уже «межрегиональная».
Статус понизили. И это меня удручает, как и тот факт, что оргкомитет конференции больше не возглавляет губернатор округа. И все же сам факт проведения подобной конференции очень важен. Главное — мы не должны допустить, чтобы в ходе обсуждения оказался в стороне корневой вопрос: как на законодательном уровне обеспечить права коренных малочисленных народов на традиционное природопользование в условиях, когда на их земли претендуют нефтегазовые компании? Все другие вопросы — охрана окружающей среды, сохранение языка, культуры — находятся в прямой зависимости от этого корневого. Нет земли — нет основы жизни моего народа.
Мой отец, умирая, просил одного: «Дайте землю, где я мог бы пасти оленей, промышлять зверя и птицу, ловить рыбу». Я писал в своих публицистических статьях 90-х годов о том, что мой род Махи (род Бобра) кончился от чувства безысходности, обреченности. В возрасте до 35-40 лет преждевременно, по пьяному делу, погибли почти все мои двоюродные и троюродные братья. Не стало земли — кончился род. Когда я стал депутатом Верховного Совета СССР, то сразу же занялся разработкой закона о правовом статусе коренных малочисленных народов, который был принят спустя лишь 10 лет. Справедливости ради отмечу, что наша первая конференция, посвященная проблемам взаимоотношений аборигенов и нефтяников, проходила в условиях фактического отсутствия отраслевого федерального и регионального законодательства, регулирующего вопросы жизнедеятельности коренных малочисленных народов РФ.
Тогда формировались лишь общие принципы взаимоотношений между ресурсодобывающими компаниями и коренными малочисленными народами по поводу промышленного освоения мест их традиционного проживания и хозяйственной деятельности. В последние годы приняты три федеральных закона, определяющие правовое положение наших народов: «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» (1999 г.), «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» (2000 г.), «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» (2001 г.). Нельзя сказать, что на региональном уровне не предпринимаются попытки защитить права аборигенов. Именно для этого в составе думы Югры создана ассамблея представителей коренных малочисленных народов. Подобной структуры нет ни в одном субъекте Федерации, где проживают аборигены. Побывав в Югре, Комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблес позитивно оценил найденный нами через создание ассамблеи способ защиты прав коренных народов.
Нынешнему составу Думы Югры удалось принять 9 законов, направленных на защиту и обеспечение прав коренных малочисленных народов Севера. Среди них: «Об общинах коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе»; «О традиционных видах деятельности…», «О языках коренных малочисленных народов Севера..», «О поддержке органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных народов Севера», «О развитии северного оленеводства в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», «О поддержке средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов…». Конечно, чрезвычайно важным событием я считаю принятие и закона о святилищах коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе, и закона о фольклоре. И все же с горечью констатирую: законы финансово-экономического блока нам, как правило, не удается принять.
Как вы знаете, в составе думы в основном «генералы»: из 25 депутатов 16 — главы крупных компаний или их заместители. Да, они стали лояльнее относиться к законопроектам, касающимся прав коренных народов. Но что касается земли… Мы сумели лишь в первом чтении принять закон о землях традиционного природопользования. Вопрос о земле — самый сложный. И пока нет общинной собственности на землю, я считаю, что будет и в дальнейшем происходить отторжение исконной земли коренных народов, ведущих традиционный образ жизни, под промышленное освоение. Я много ездил по северным странам, изучал опыт Северной Америки. Мне кажется, нам есть чему поучиться, прежде всего, у Канады. В этой стране сумели создать условия для самовыживания своих арктических народов. Будучи там, я все время искал ответ на мучающий меня вопрос: почему коренные народы Севера России так бедны по сравнению с их канадскими собратьями?
Почему инуиты владеют авиакомпаниями Многое мне стало понятно после многочисленных встреч с людьми Нунавута — территорией самоуправления инуитов. Это были чиновники, бизнесмены, охотники, государственные и общественные деятели, вожди племен, инуиты, индейцы, белые. О чем бы мы ни говорили, всегда затрагивался вопрос о земле. Стало быть, это заглавный вопрос. Как он решается в Канаде? На первый взгляд, довольно просто. Инуиты выдвигают свои права на земли, воды и природные ресурсы перед федеральным правительством Канады. Для ведения переговоров создается комиссия на паритетных началах: от представителей народа и правительства. Затем правительство выдает ссуду на работу этой комиссии. Комиссия разрабатывает соглашение, статьи которого четко регламентируют: какие земли и воды передаются в собственность инуитам, а какие остаются в ведении правительства. При этом инуиты частично получают земли вместе с ресурсами недр. Затем инуиты голосованием должны одобрить соглашение, а правительство подписать его. После этого документ направляется в парламент Канады для ратификации. И только пройдя все эти процедуры, соглашение вступает в силу.
В приложении к нему расписывается механизм реализации на десятилетний срок — какие обязательства должны выполнять стороны ежегодно. Если возникнет спор, его рассматривает суд. Но у инуитов ни разу дело до суда не доходило. По сути дела, соглашение после ратификации парламентом становится законом. По соглашению правительство ежегодно выплачивает инуитам определенную сумму за пользование их землями, водами и ресурсами недр. Эти средства расходуются по двум основным направлениям. Частично инуиты погашают ссуду правительства на ведение переговоров, которые ведутся в среднем 10 лет. Другую часть финансовых средств инуиты используют по своему усмотрению — решают жизненно важные проблемы. Для этого создают корпорации экономического развития. Такие же соглашения правительство заключает с другими группами индейцев и метисов на севере Канады.
Практика таких взаимоотношений мне показалась весьма разумной и эффективной. У правительства есть юридически закрепленные обязательства перед арктическим народом, живущим в экстремальных климатических условиях, постоянно балансирующим между жизнью и смертью. И народ берет на себя определенную ответственность перед правительством. Это документ о взаимном согласии, доверии и уважении друг к другу. За социальное благополучие инуитов, кроме правительства, отвечают национальные корпорации экономического развития. Они получают выделяемые государством компенсационные и другие средства, им выдают лицензии. Например, на ловлю креветок, добычу рыбы и морских зверей. Как и кто управляет корпорацией? Конечно же, совет директоров. Как правило, он состоит только из представителей инуитского народа. Избирается на два года всеми инуитами старше шестнадцати лет. В его составе десять-двенадцать человек: президент, два вице-президента, казначей и по одному представителю от каждого поселка. Совет директоров определяет только общую политику, а все текущие дела выполняет исполнительная дирекция. На средства, выделяемые правительством по соглашению, инуиты создали свои две авиакомпании. Они выполняют рейсы в основном между национальными поселками. Это «Фест эйр» и «Инуит эйр». Как мне сказал в мой первый приезд в Канаду руководитель корпорации «Макивик» Марк Гордон, эти две авиакомпании в год дают около пяти миллионов долларов прибыли. Но инуиты осваивают и новые для себя отрасли в экономике страны. В Икалуите мы повстречались с Марти Килугуктуком, руководителем корпорации «Кикиталук». Фирма занимается в основном ловлей креветок. Я задал Марти, как мне казалось, главный вопрос:
— У вас есть на это лицензия?
— Да, в Канаде всего семнадцать лицензий на ловлю креветок, но три из них принадлежат инуитам.
— И сколько на одну лицензию можно выловить?
— Две тысячи тонн.
— И есть прибыль?
— Конечно. Креветки пользуются большим спросом почти во всем мире. Кроме этого, уточнил Марти, мы обеспечиваем работу местного аэропорта, обслуживаем тяжелую технику. Например, в команды судов специально набираются представители коренного населения. Корпорация «Кикиталук» — это акционерное общество, где прибыль распределяется между всеми инуитами данного региона. За ними закреплены акции, но без права продажи. Так решил совет директоров. Кроме всего прочего, корпорации могут заключать соглашения с частными и государственными фирмами об условиях разработки залежей полезных ископаемых в местах проживания коренного населения. Словом, они выступают полноправными партнерами правительства в решении экономических и социальных проблем народа и региона. Вернувшись домой, в Россию, я не однажды вспоминал и деятельность этих корпораций, и, в целом, опыт взаимоотношений с правительством…
… И на Ямале, и в Югорском крае мы не претендуем на все земли, газовые и нефтяные залежи. Но крайне необходимо сохранить небольшие участки, земли проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов. Для традиционного образа жизни, для развития традиционных отраслей хозяйства. Подписывая соглашение о земле, правительство берет на себя очень конкретные, юридически оформленные обязательства перед народом. И народ, уступая свои земли, обязуется выполнять условия правительства. Все остальное пока не срабатывает. Наше правительство само принимает программы по народам Севера и само же их не выполняет. Но оно продолжает извлекать баснословные прибыли, пользуясь землями и ресурсами недр в местах проживания этих народов.
Правительству России, я думаю, было бы чрезвычайно важно заключить соглашения с теми народами, на землях которых разрабатываются месторождения нефти, газа, цветных металлов, золота. Ведь они, теряя промысловые угодья и утрачивая традиционный образ жизни, уничтожаются как народы. Правда, это делается косвенно, путем изъятия их земель под промышленное освоение. Полагаю, что коренные народы Севера должны настаивать на конкретных соглашениях о земле с федеральным правительством России.
Автор: Ольга Маслова, Москва.