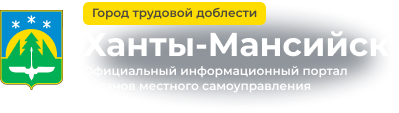Благодаря появлению новых зданий у столицы округа начинает вырисовываться неповторимый архитектурный стиль. О его особенностях и дальнейших строительных планах беседовала с главным архитектором ХМАО Борисом Георгиевичем Вихоревым корреспондент «НЮ» Анастасия Скорина. — Борис Георгиевич, я знаю, что приезжие с чем только ни сравнивают Ханты-Мансийск. Один из моих знакомых даже назвал город мини-Швейцарией. Скажите, столица округа застраивается по уникальному проекту или же за образец взят какой-то город или страна мира?
— Я думаю, каждый город вырастает как совершенно особенный проект. Все зависит от территориальных ресурсов: какие территории пригодны под застройку, какие нет, где можно провести мероприятия по рекультивации земель, где нельзя. Поэтому двух одинаковых городов, конечно, нет. В Ханты-Мансийске, в отличие от других городов Югры, очень своеобразная природная среда. Тогда как другие города, равнинные или со слабо всхолм- ленной местностью, Ханты-Мансийск стоит на своеобразной горке посреди болот. Это тоже накладывает свой отпечаток. В городах округа площадок, пригодных для строительства, много. Есть площади, которые можно «отсыпать» и начать развивать. В Ханты-Мансийске такого нет. Пойма заливная, сыпать — себе дороже. Тот гидронамыв, который сейчас осваивается, — единственный пример. Другая особенность — лес, который находится в пределах города. Он объявлен заповедником «Самаровский чугас» и относится к лесам первой группы — они не подлежат вырубке. Все вместе определяет характер «точечного» строительства, а не большими площадками-микрорайонами. Получается город контрастов: стоят еще не снесенные «деревяшки», а рядом — приличные современные здания. Кстати, не знаю, кто с чем Ханты-Мансийск сопоставляет, но, как говорит губернатор Югры, пусть лучше кто-то себя сравнивает с нами, чем мы себя — с ними. — Все новые здания получаются разными по сравнению друг с другом. Вы не считаете, что это нарушает общую стилистику?
— На самом деле никто не ставит задачу сделать город в одном стиле. А то, что важнейшие общественные здания имеют разную стилистику… Во-первых, это происходило потому, что работало много авторов. Мы старались выбирать уже известных, заявивших о себе мастеров российской архитектуры, а у каждого свой почерк, свое устоявшееся представление. Во-вторых, здесь уже задача градостроителя, чтобы это все потом получилось каким-то целостным ансамблем. Я считаю, эту задачу мы выполним. Если кому-то кажется, что нельзя такие разные здания ставить рядом, поверьте, пройдет 15—20 лет, это будет восприниматься совершенно естественно. Архитектура же рассчитана не на сегодняшнее восприятие, а на многие десятилетия вперед. — Что вы можете сказать тем, кто обвиняет город в излишней помпезности? Вы согласны вообще, что такое обвинение оправдано?
— Я согласен, что такая точка зрения существует, и я понимаю ее психологические причины: это просто зависть. Те, кто приезжает из городов, которые развивались достаточно последовательно на протяжении многих десятилетий, ожидают увидеть город, который они только вчера нашли на карте нашей родины. Ну, представляете, как столица смотрит на провинцию? И вдруг они видят то, что видят. К сожалению, у некоторых это вызывает негативные чувства. — Давайте поговорим о традициях Севера: как известно, в традициях Древней северной Руси были резные деревянные узоры, терема, но не было и подавно тех башен, которые мы видим сейчас. С чем связан этот уход от традиций? — На самом деле башен не так много, как о них говорят. Поезжайте в ту же Тюмень, и вы найдете их там гораздо больше, причем построенных после того, как их перестали делать в Ханты-Мансийске. Но такой момент был: к сожалению, из работавших поначалу в нашем городе архитекторов многие чуть ли не в первый раз приехали на Север. Их банальное представление о том, что такое северная архитектура, ограничивалось тем, что это должен быть чум. И действительно был такой период «чумовой» архитектуры. — То есть башня у нас — символ чума?
— Да. Психологически. Архитекторы считали, что они что-то новое открыли, на самом же деле это уже было отработано в 60-е годы. А теперь начинается, наоборот, период «безбашенной» архитектуры. Что касается традиций: из истории вообще нужно брать не форму, а содержание. Содержание северной архитектуры состоит в том, что здание противостоит неблагоприятному климату. Поэтому сооружения должны иметь широкий корпус и обладать «мощным» характером: достаточно посмотреть на избы восточной Сибири. — А с «деревяшками», как вы их назвали, планируется что-то делать: обшивать или сносить, к примеру?
— Обшили те здания, которые были в относительно хорошей сохранности: 70-х и 80-х годов постройки. Поэтому они еще будут стоять. Но и снос, конечно, идет. Только очень тяжело из-за нашего законодательства. Нельзя же, как при социализме, прийти и поставить жителя перед фактом: дом сносится, вам дается квартира. Если люди, живущие в частных домиках, успели получить в собственность землю, то снос идет только путем договоренности. Вообще, мы сейчас выходим на площади, где начнем строить новое жилье. Я говорю про так называемый восточный район — это территория между городом и заливной поймой. Есть планы начать засыпку, поднимать площадку и на этом гидронамыве строить жилье. Цены, я думаю, должны если не упасть резко, то, по крайней мере, перестать расти так, как они растут сегодня в Ханты-Мансийске. — Какие здания будут строиться в ближайшем будущем?
— Мы в основном строим здания общественного назначения. Для сфер спорта, здравоохранения, образования, культуры — такого в Ханты-Мансийске в ближайшие годы намечено очень много. Я думаю, строительство сделает второй рывок после того, что было в конце 90-х — начале 2000-х годов. Сейчас начнется строительство объектов, может, не самых крупных. Думаю, самые крупные уже построены. Это будут объекты, которые необходимы городу: начнется развитие больничного комплекса. Продолжится «спортивное» строительство: вторая очередь Ледового дворца с возможностью проводить масштабные соревнования по хоккею, фигурному катанию; бильярдный клуб для проведения соревнований; шахматный клуб, где в 2010 году планируется провести Всемирную шахматную олимпиаду. Осенью должен быть открыт выставочный центр, начато проектирование двух театров: театра кукол и театра моды. — Вы можете назвать имена архитекторов, которым принадлежит авторство самых-самых зданий?
— Автором, например, Гостиного двора является академик Кубасов — один из ярчайших архитекторов современной России. Автор храма и Дома дружбы народов — заслуженный архитектор России Казаков из Новосибирска. Очень много сделал архитектор Короленко. Кстати, он и имя себе на Ханты-Мансийске сделал. Беседовала Анастасия СКОРИНА